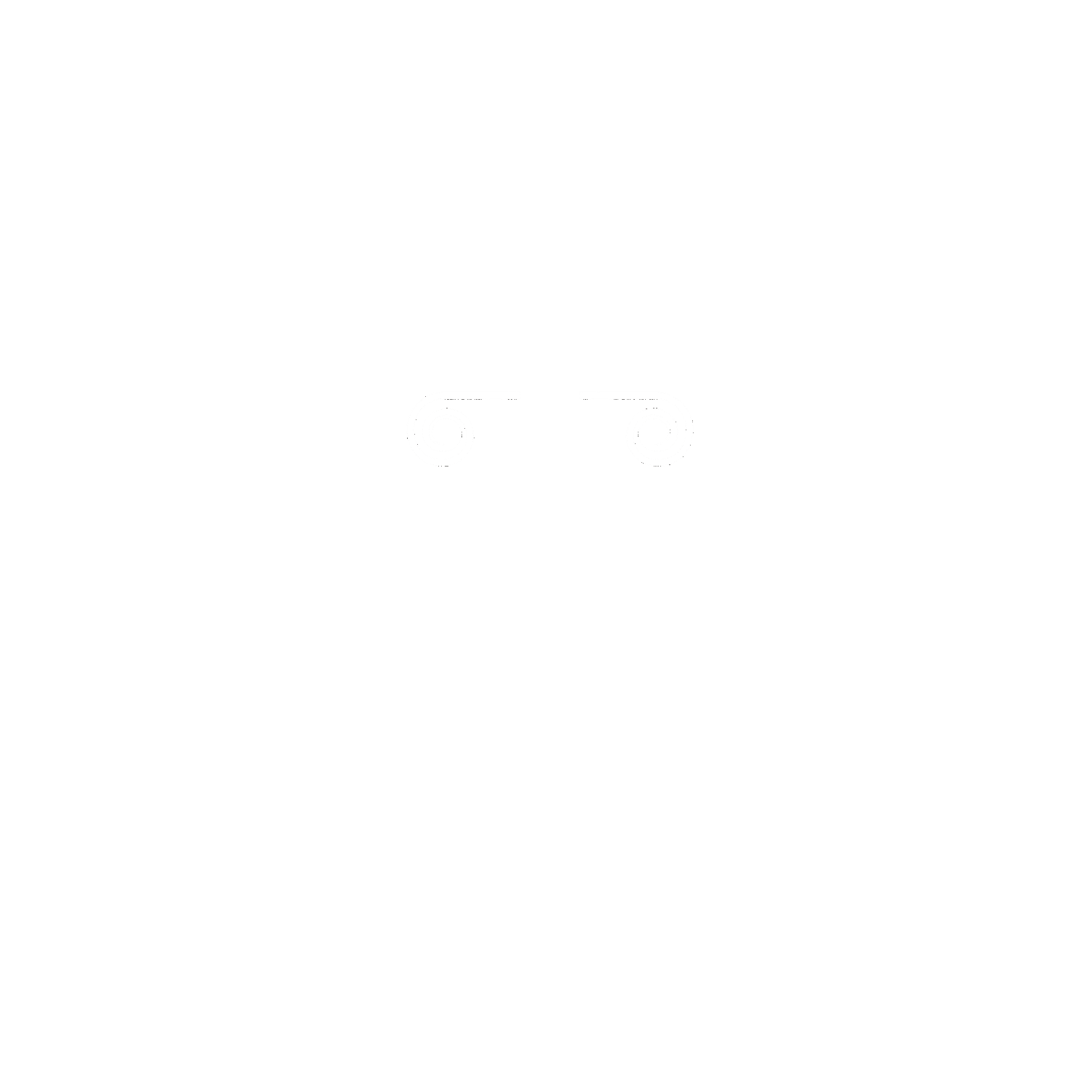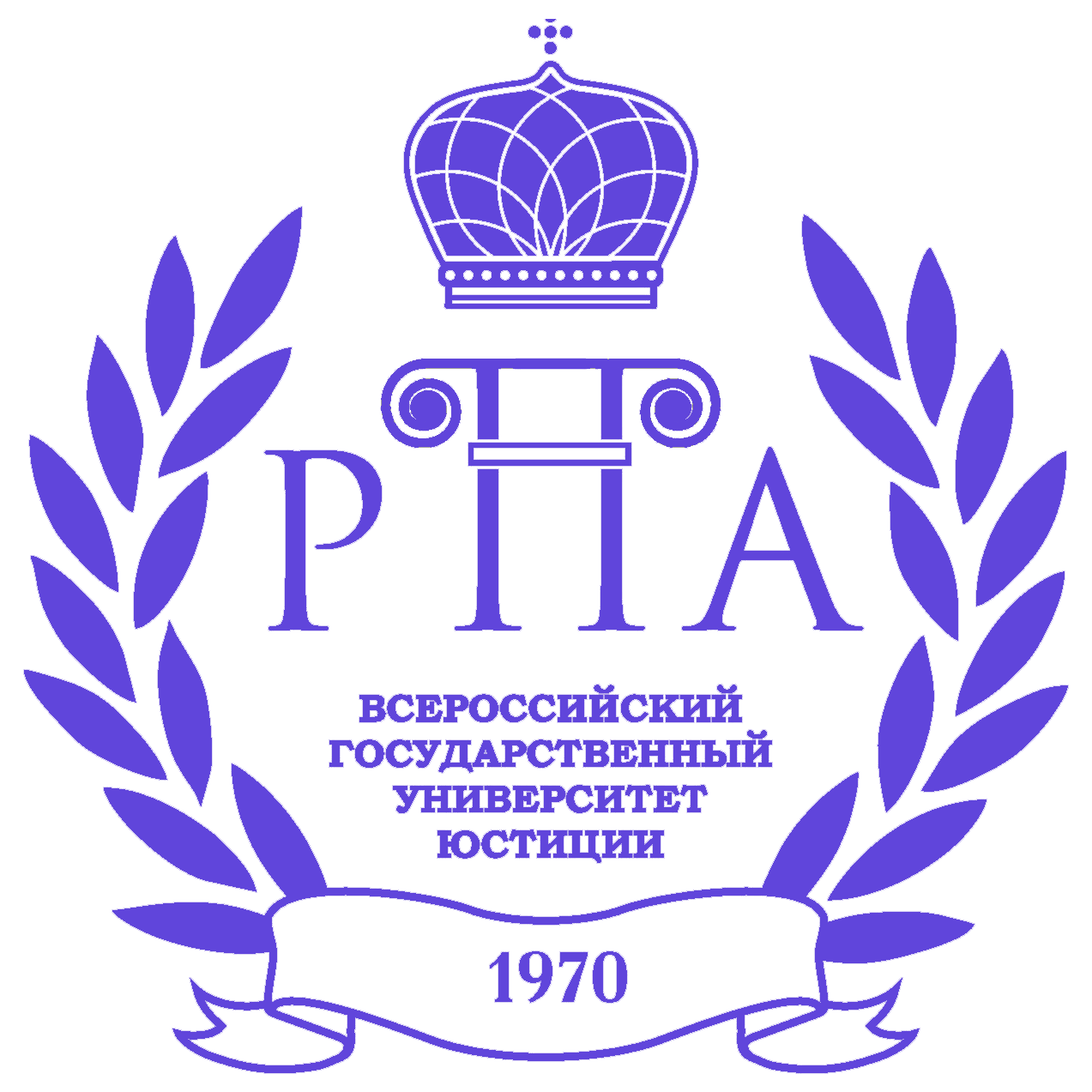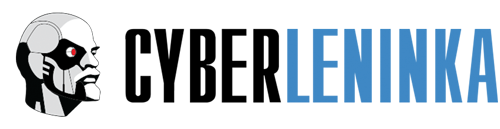Важнейшим регулятором общественных отношений, фундирующихся на равенстве и автономии воли их участников, выступает сделка, прежде всего, договор. «Главное свойство договора как юридического средства, — отмечает Б. И. Пугинский, — возможность решения на его основе, т.е. правовым способом, широкого круга вопросов, возникающих во взаимоотношениях контрагентов… Указанное свойство может быть определено как регулятивные возможности договора в организации взаимосвязанной деятельности субъектов» [19, с. 116].
Тезис о регламентационном функциональном предназначении договора является общепризнанным и в науке практически не подвергается сомнению: Р. О. Халфина подчеркивает, что качество средства регулирования поведения сторон присуще всем договорам [25, с. 112]; В. А. Семеусов прямо указывает, что у договора есть, в том числе, регулятивная функция и функция локального регулирования общественных отношений [21, с. 83]; по мнению З. И. Цыбуленко, «в отличие от иных юридических фактов, которые влекут только установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений, договор, кроме того, непосредственно и регулирует поведение сторон» [9, с. 357]; С. Н. Мызров констатирует, что договор является «одним из важнейших средств правового регулирования в имущественной сфере» [8, с. 131]; о многоаспектном регулятивном потенциале договора пишет О. С. Ерахтина [10, с. 122–130]. В свете изложенного ремарка В. А. Белова по поводу того, что регулятивное значение юридических актов «прямо почти никем в литературе не признается» [5, с. 177], кажется несколько преувеличенной; скорее, следует сожалеть о том, что «исследовательская мысль за редким исключением не простирается дальше констатации регулирующей роли гражданско-правового договора» [12, с. 5].
Регулятивная «ипостась» сделки предполагает восприятие ее условий (всех или некоторых) в качестве обязательных (по крайней мере, для участников сделки) правил поведения, что свидетельствует о нормативности (пускай, и в «усеченном» варианте) сделки как правового акта. Но можно ли (а точнее — стоит ли) в этой связи ставить вопрос о придании сделке статуса акта, содержащего нормы права?
Вообще, характеристика нормативности (или его «аналога» в случае неиспользования термина «нормативность») как имманентного свойства (наряду с формальной определенностью, ясностью и т. д.) нормы права (особенно, с учетом интерпретационного «отягощения» юридическими моментами) является достаточно имплицитной. Позволительно выделить следующие получившие широкое распространение в литературных источниках основные направления, отражающие существующую терминологическую « разноголосицу» (в содержательном же плане, подчеркнем, представленные подходы во многом перекликаются):
1) установка на указание в составе признаков нормы права именно нормативности (И. Ш. Муксинов [24, с. 33]), причем нормативность порою прямо отождествляется с общеобязательностью поведенческого правила (В. А. Белов [5, с. 138]); иногда же, напротив, упоминается наряду с общеобязательностью (В. С. Белых [6, с. 96]), тем самым, подразумевается размежевание данных понятий;
2) «линия», исходя из которой речь ведется не о собственно нормативности, а об общем характере нормы права (О. Э. Лейст [15, с. 154], В. С. Нерсесянц [14, с. 394], В. Д. Попков [18, с. 707] и др.) либо общеобязательности (М. И. Абдулаев [1, с. 203]);
3) подход, при котором признаки правовой нормы дробятся, не подвергаясь укрупнению: например, А. Б. Венгеров, не прибегая к понятиям «нормативность» и «общий характер», относит к числу признаков нормы права их общеобязательность, неперсонифицированность, неоднократность (или многократность) действия и т. д. [7, с. 362–366].
Заметим, что вовлечение в «орбиту» нормативности критерия общеобязательности (причем единообразия в установлении соотношения признака общеобязательности с иными свойствами нормы права не наблюдается — общеобязательность рассматривается и как самостоятельный признак, и как синоним или компонент нормативности, и в одном ряду с неперсонифицированностью) видится не совсем органичным: принимая во внимание нацеленность термина «обязательность нормы» на фиксацию безусловности следования предписанию и его властного характера (например, раскрывая признак общеобязательности, А. Б. Венгеров отмечает, что «норма права — это общеобязательное веление, выраженное в виде государственно-властного предписания» [7, с. 362]; по мысли М. Ю. Тихомирова и И. В. Котелевской, общеобязательность правового акта означает, что «акт официально признан государством и его институтами. Его обязаны исполнять физические и юридические лица, которым он адресован» [23, с. 18]), уместнее, полагаем, говорить об обязательности наряду с нормативностью (более того, в дополнительном обсуждении нуждается и вопрос о корректности универсализации признака общеобязательности с позиции признания существования рекомендательных правовых норм).
Довольно традиционным стало освещение нормативности (либо общего характера) юридической нормы с помощью двух ключевых параметров — ситуационного и субъектного; причем подразумеваемым, но фактически никогда прямо не оглашаемым является положение о необходимости их одновременного наличия для признания правила нормативно-правовым.
Ситуационный момент обычно сводится к заключению, в соответствии с которым нормативное правило предполагает возможность его неоднократного (в неограниченном количестве случаев) применения. Нередко также разбираемый ракурс нюансируется вспомогательными замечаниями темпорального порядка (непосредственно вытекающими из неоднократности применения) — положениями о том, что норма права действует непрерывно [15, с. 165] и после реализации в индивидуальных отношениях, т. е. не исчерпывается разовым применением. Кроме того, в рамках «ситуационного» или дополнительного аспекта заявляется о направленности нормы права на регламентацию не единичного (конкретного) отношения, а вида общественных отношений [22, с. 119].
Субъектный аспект нормативности принято раскрывать через констатацию неопределенности круга лиц, на который рассчитано нормативное положение, при этом:
– как правило, обозначается персональная (условно — качественная) неопределенность, выражающаяся в неконкретизированности (неперсонифицированности, обезличенности) субъектного состава (что, конечно, не исключает фиксации тех или иных, вполне конкретных, требований к лицам, на которые ориентируется правовая норма). Так, «юридические нормы, — по словам Л. С. Явича, — создают целый комплекс неперсонифицированных масштабов поведения» [27, с. 118]; В. М. Сырых называет одним из критериев и внешних признаков нормативности «неперсонифицированность (неконкретность) адресата нормы» [22, с. 119]; признаком нормы права рассматривает неперсонифицированность и А. Б. Венгеров [7, с. 363]. По мнению О. Э. Лейст, «общий характер нормы означает персональную неконкретность ее адресатов — она распространяет свое действие не на индивидуально-определенных, а на любых лиц, которые вступают или могут вступать в правоотношения на ее основе» [15, с. 154]; признак нормативности И. Ш. Муксинов усматривает, в том числе, в отсутствии конкретного адресата [24, с. 33]; «в отличие от команд, велений, распоряжений по конкретным вопросам, норма, — доказывает В. Д. Попков, — адресована не отдельному лицу, а кругу лиц, определяемых типическими признаками» [18, с. 707]. Из постулата, в соответствии с которым нормативный правовой акт содержит правила поведения, адресованные персонально неопределенному кругу лиц, исходит Конституционный Суд РФ (см., к примеру, определение от 2 марта 2006 г. № 58-О);
– иногда же акцент переносится на количественный аспект: в частности, по мысли Д. Н. Бахраха, нормативный правовой акт (в отличие от индивидуального, правоприменительного) «рассчитан на неопределенное число лиц» [4, с. 26]. М. Ю. Тихомиров и И. В. Котелевская, вообще, нормативным называют акт «адресованный к широкому кругу лиц — субъектов права» (курсив наш. — Ю. П.) [23, с. 29]. Однако данное утверждение, как представляется, не может претендовать на статус дефинитивно-критериального, ибо «широта» субъектного состава не предопределяет в обязательном порядке его качественную и (или) количественную неопределенность, а признак значительности (либо незначительности) множественности лиц лишен должной смысловой четкости.
Противополагание персональной неопределенности количественной, думается, не носит антагонистический характер (первая предполагает вторую и наоборот), вследствие чего теоретически уместными оказываются оба изучаемых ракурса, а равно их совместное использование. Вместе с тем, с точки зрения словесного отражения сущности «безликости» нормативных положений все-таки первостепенным полагаем фокусирование внимания на неперсонифицированности их адресата.
Неясность сохраняется по вопросу о достаточности частичной неперсонифицированности для квалификации правила в качестве нормы. Нам импонирует подход, в соответствии с которым конкретизированность какого-либо субъекта (при условии неопределенности «противостоящего» ему круга лиц) сама по себе не должна приводить к отрицанию нормативности. Так, В. М. Сырых рассматривает как нормативные «все предписания, которыми устанавливается правовой статус конкретных предприятий, организаций, учреждений» («…например, уставы юридических лиц»): «нормативный характер таких предписаний, — на взгляд автора, — выражается в том, что в них определен индивидуально лишь один субъект правоотношения. В то же время субъекты, с которыми конкретное юридическое лицо … будет вступать в правоотношения, уставами … неперсонифицированы» (курсив наш. — Ю. П.) [22, с. 120]. Оставляя за скобками проблематику правовой природы учредительных документов юридических лиц (сопряженную с освещением целого ряда дополнительных моментов — возможность правотворчества со стороны частных лиц, сущность и вариации санкционирования норм государством и пр.), подчеркнем лишь целесообразность принципиальной допустимости трактовки предписания, пусть и с неполной субъектной неперсонифицированностью, в качестве нормативного (с учетом того, что такое правило в целом не утрачивает персональную неопределенность, а выведение еще одной группы предписаний, помимо нормы, которое бы отразило частичную неперсонифицированность, повлечет едва ли рациональное «утяжеление» терминологического аппарата).
Попутно укажем, что оба затронутых момента нормативности (и ситуационный, и субъектный) с отграничением их, кстати, от признака общеобязательности оказались задействованными разработчиками законопроекта «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» (сотрудниками Института государства и права РАН) при формулировании понятия правовых норм, под которыми предлагается понимать «общеобязательные правила постоянного или временного характера, адресованные неопределенному кругу лиц и рассчитанные на многократное применение» [16, с. 84].
Вне всяких сомнений, «…той неопределенности круга адресатов и числа случаев применения — свойств, присущих постановлениям нормативных актов, — у условий односторонних сделок и договоров не наблюдается (курсив наш. — Ю. П.); соответственно на эти условия, — совершенно обоснованно заявляет В. А. Белов, — не может сослаться никто, кроме участников гражданских правоотношений, порожденных соответствующими сделками, и лишь в споре с себе подобными…» (важно учитывать при этом, что определенность круга субъектов «…отнюдь не означает неизменности этого круга») [5, с. 138, 182].
Сказанное в полной мере относится и к публичному договору, хотя в литературе представлено и иное видение вопроса. Так, В. С. Нерсесянц считает, что нормативно-правовое значение (в смысле договорного источника права) имеет публичный договор в области гражданского права…», поскольку «положения публичного договора (его условия и т. п.) распространяются на неопределенное множество лиц и обязательны для сторон всех конкретных договоров, которые могут быть заключены на основе общих положений (норм) соответствующего публичного договора», причем «по существу под публичным договором имеется в виду типовой или примерный договор, напротив, обычный договор в области гражданского права» есть акт реализации действующих норм права, имеющий индивидуальный характер и значимый лишь для конкретно определенных лиц, а не акт установления новых норм права. Подобные договоры являются актами индивидуального, а не нормативного (нормоустанавливающего) характера, а потому они не являются источниками права» (курсив наш. — Ю. П.) [14, с. 413–414]. Полемичность приведенного высказывания [см.: 6, с. 96–97] обусловлена, среди прочего, тем, что:
– нормативно предусмотренная обязанность установления условий публичного договора одинаковыми для всех потребителей (п. 2 ст. 426 ГК РФ), опосредуя известную стандартизацию содержания конкретных договоров, не делает, тем не менее, условия последних неперсонифицированными (они касаются только сторон заключенных соглашений);
– типовые (примерные) договоры, которые вправе издавать уполномоченные государственные органы в соответствии с п. 4 ст. 426 ГК РФ (на которую ссылается ученый), действительно, содержащие правовые нормы, не являются собственно публичными договорами, заключаемыми конкретными субъектами гражданских правоотношений.
Изложенное (а равно иные аргументы, не ставшие предметом обсуждения в настоящей работе) дает повод для заявлений не о нормативном, а о поднормативном и (или) индивидуальном, автономном, иногда — локальном[1] регулятивном значении сделок. Так, М. В. Батянов усматривает в договоре «средство поднормативного регулирования» [3, с. 45]; С. С. Алексеев пишет о договоре как средстве индивидуального (автономного) регулирования [2, с. 56]; В. Б. Исаков причисляет договор к индивидуальным правовым актам [11, с. 69]; В. Р. Шарифуллин указывает на то, что «…индивидуально-правовое регулирование осуществляется в форме специального вида — индивидуально-договорного регулирования, основанного на индивидуальном договоре, заключенном сторонами» [26, с. 53]; С. Т. Максименко рассматривает договоры и односторонние сделки в качестве «источника индивидуальных норм» [13, с. 130]; В. Ф. Попондопуло обозначает актом локального правотворчества «…договоры, в которых по соглашению сторон устанавливаются локальные предписания, учитываются индивидуальные интересы сторон» [17, с. 61]. Принципиальным здесь видится то, что различие в терминологии выражает идею отграничения норм права, имеющих общий характер, от сделочных условий. В частности, А. А. Серветник специально подчеркивает, что «определяющим для всех отраслей права способом регламентации общественных отношений является их нормативное регулирование. В то же время не исключается и поднормативное, индивидуальное регулирование, которое наиболее яркое выражение находит в гражданско-правовых обязательствах. Особая роль в этом отношении принадлежит договорам» [20, с. 114].
Вместе с тем, в литературе все чаще звучат предложения о пересмотре традиционных представлений о сущности нормативности правовых предписаний и отказе от субъектного и (или) ситуационного признаков (что дает «шанс» для иного понимания сделки, в том числе и как нормативного правового акта, а также источника права). К примеру, В. А. Белов гипотетически допускает возможность отрешиться от указанных свойств правовой нормы и считать таковой юридически обязательное (неважно, для сколь широкого круга лиц) правило поведения, тогда условия односторонних сделок и договоров будут играть самую непосредственную роль в гражданско-правовом регулировании конкретных общественных отношений [5, с. 182]. Заметим, что в русле обозначенного подхода сделка должна интерпретироваться в качестве источника именно правовых норм (это, однако, вступает в определенное логическое противоречие с авторской мыслью о том, что «источниками гражданского права должны быть признаны внешние формы выражения не одних только правовых норм — общеобязательных универсальных (абстрактных) правил поведения государственного происхождения, но и всяких вообще суждений юридического значения…» [Там же, с. 177], ибо рассмотрение в качестве норм права лишь универсальных (абстрактных) предписаний исключает возможность квалификации условий сделки как правовых норм).
С точки зрения М. Ф. Казанцева, «для признания правового акта нормативным достаточно того, что акт рассчитан на неоднократную реализацию. При подобном подходе нормативные правовые акты могут быть как общеобязательными, так и необщеобязательными, в том числе индивидуальными (свойства индивидуальности и ненормативности не тождественны)» [12, с. 102–103]; таким образом, автор «выдворяет» субъектный аспект за пределы нормативности (и признаков нормы права в целом), что служит ему логичным поводом для рубрикации договоров на нормативные, ненормативные и нормативно-ненормативные.
Не отвергая приведенные рассуждения, все же заметим, что, учитывая необходимость весьма серьезной модернизации соответствующего терминологического ряда («норма права», «нормативный правовой акт» и др.) в случае конвенционального признания предлагаемой трактовки нормативности, а равно неумаление и при сегодняшнем подходе регулятивной силы сделок (бесспорно отличающейся от регулятивного воздействия нормативных правовых актов), рассмотренные «обновленческие» устремления (несколько «затушевывающие» самобытность нормативного правового акта, с одной стороны, и индивидуального юридического акта, с другой) видятся не совсем очевидными.