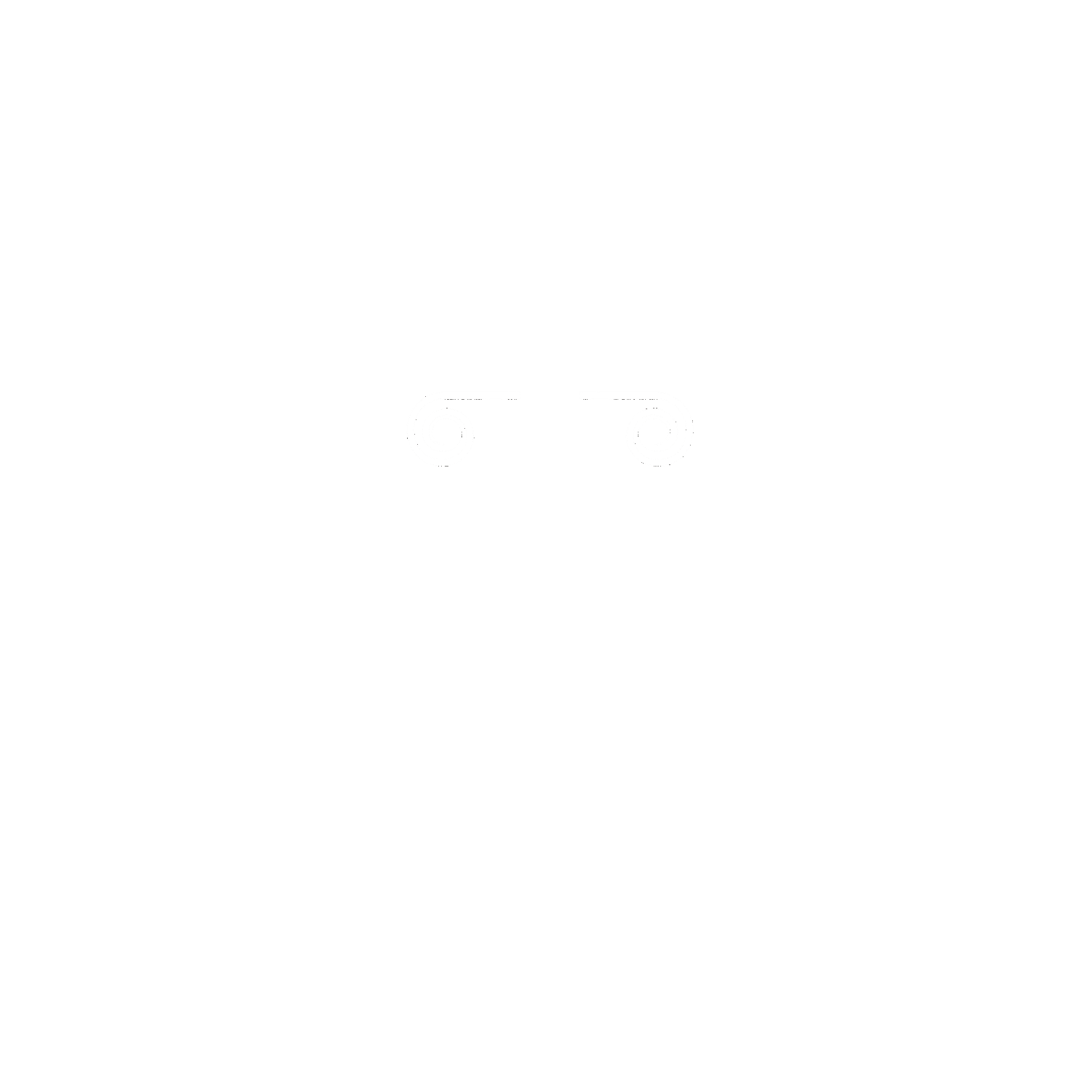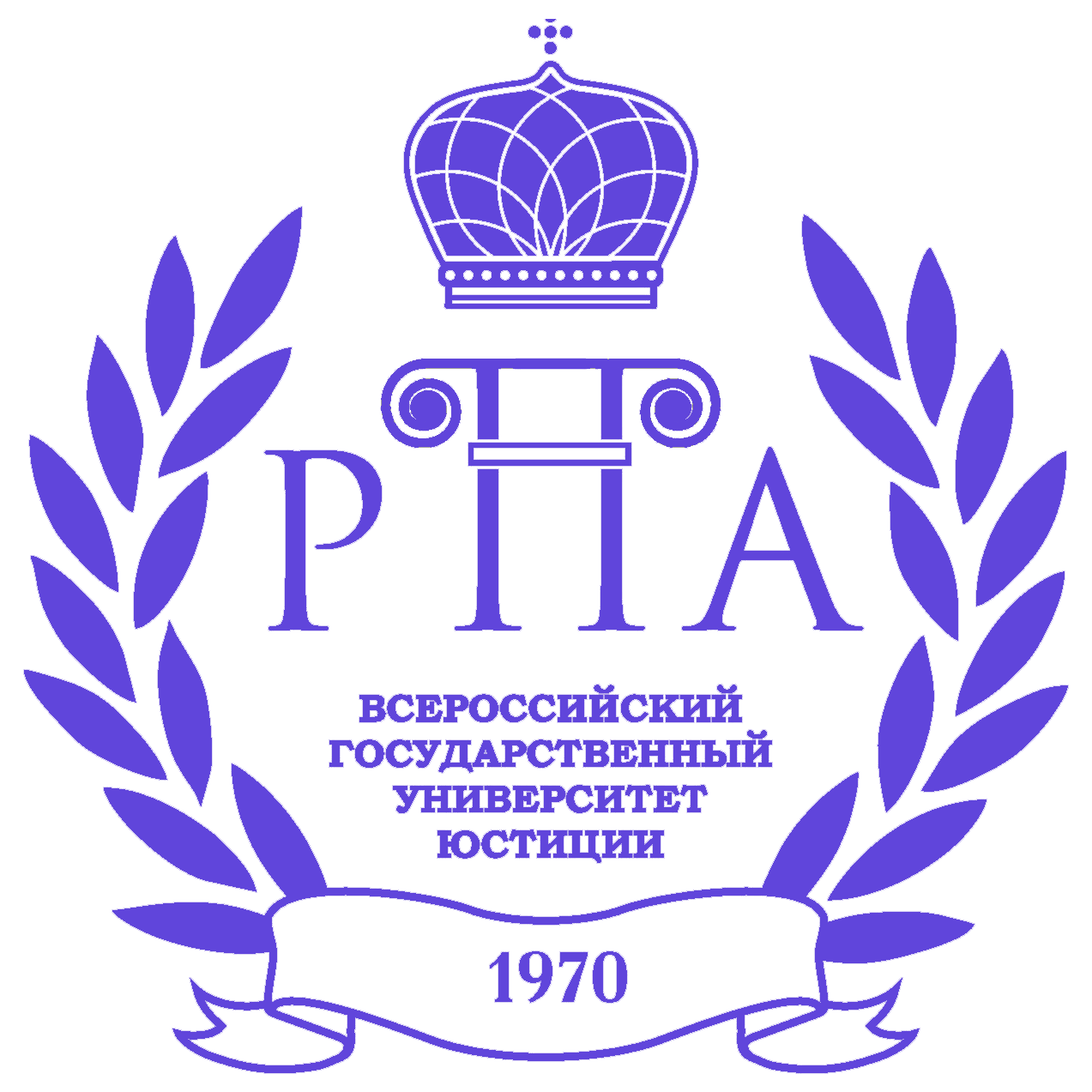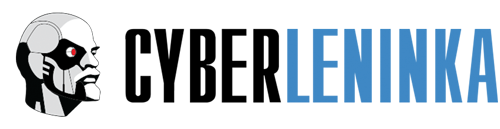В силу непреходящей актуальности проблемы противодействия коррупции необходимо вновь и вновь возвращаться к вопросу об основаниях, в том числе теоретических с позиций современной криминологии, формирования и совершенствования теории, стратегии, политики и практики борьбы с коррупцией.
Масштабная антикоррупционная волна, которая продолжается в стране уже не один год, привела к очевидным достижениям в этой сфере, в том числе имеющим заметное профилактическое воздействие. Главные из них: сегодня от привлечения к уголовной ответственности за коррупционные деяния не спасают никакие должности, звания и регалии, здесь не осталось «неприкасаемых»; в сфере пристального внимания государства находятся доходы, расходы, имущество государственных и муниципальных служащих, депутатов; создана разветвленная система органов антикоррупционной профилактики во всех государственных организациях; систематически проводится экспертиза на коррупционность любых нормативных актов [1].
В то же время, несмотря на отмеченные достижения, в общественном сознании складывается убеждение об отсутствии в деятельности государства в рассматриваемом направлении необходимой сознательности, а именно, квалифицированной системности. Подобное убеждение есть только иное выражение конъюнктурности подобных практик и даже их заказного характера, за которым скрывается сведение счетов между различными группами интересов. В нем проявляются также господствующий формализм в действии бюрократических систем, попытки облегчения своей жизни с помощью создания видимости борьбы, стремление к достижению чисто ведомственных и локальных показателей, заставляющее даже скрывать факты преступления и нарушений и др. Массовое воспроизводство коррупционных нарушений, зачастую происходящее на тех же участках общественной жизни, которые, казалось бы, «зачищены» от коррупции, только усиливает отмеченное убеждение.
Журналисты «Эксперта» даже используют для характеристики общего состояния антикоррупционной практики в России термин «хаос». При этом специально подчеркивается «несистемный характер» «развернувшейся в России борьбы за чистоту неизвестно каких рядов» [14, с. 50 – 52]. Согласно их позиции, подобное состояние есть результат действия нескольких факторов: «недостатки в законодательстве – раз; неунифицированная судебная практика – два, непубличный и точечный характер силовых акций – три».
Оставив в стороне журналистское преувеличение приведенной выше характеристики, совершенно естественно постулировать альтернативную позицию: основы для проведения последовательной осмысленной антикоррупционной политики в стране все-таки созданы. Для подкрепления, приведенного положения, достаточно, на наш взгляд, указать хотя бы на действующий Закон о противодействии коррупции, который дает надежные и действенные ориентиры для организации и проведения массовых антикоррупционных практик. В развитие положений Закона, например, систематически публикуются специальные обзоры правоприменения в сфере конфликта должностных и личных интересов [8]. Конфликт интересов достаточно внимательно отслеживается в аукционных торгах, в которых организатором и одним из участников являются представители государственной и муниципальной власти [11]. Конфликт интересов же находится в основаниях, на наш взгляд, большинства коррупционных нарушений. Подавляющее большинство подобных ситуаций на практике пока отследить практически невозможно.
Поэтому следует согласиться и с критической оценкой современной антикоррупционной политики, и даже поддержать и усилить ее, в той части, в которой указывается, что «поход за крупным благим начинанием» в виде «бескомпромиссной борьбы с коррупцией не получил системной институциональной поддержки» [14]. Логично предположить, что именно с наличием «системной институциональной поддержки» «бескомпромиссной борьбы с коррупцией», которая, по видимости, включает регулярные нормативные новации, анонсированные публично силовые акции в виде громких «посадок», «энергичные» требования добиваться «показателей», пропагандистские компании и др., здесь увязывается достижение желаемого качества рассматриваемой деятельности – обретение системности. В этом случае в указанное движение включаются все необходимые для этого звенья общества, с помощью которых только и может быть достижим требуемый и ожидаемый ее результат. Институциональную поддержку в широком смысле слова антикоррупционная политика, если не брать в расчет фрагментарность распространенных публицистических суждений на этот счет или простое наличие институциональных «разговоров», в состоянии обеспечить только всесторонняя и массовая поддержка со стороны общества этой деятельности.
Подобная ситуация предполагает, что в ней будут участвовать не только специально назначенные для этой борьбы и наделенные соответствующими полномочиями субъекты или другие сознательные, непосредственно заинтересованные в ее результатах деятели. В нее включатся гораздо более многочисленные и фундаментальные (в смысле их значения) акторы, элементы и силы общества, которые пока по разным причинам остаются от этой деятельности в стороне или включаются в нее лишь формально.
В идеале мы можем вообразить, что общество в своей жизнедеятельности, включая его основные элементы, способно приобрести антикоррупционную направленность. Всеобщее движение против коррупции или антикоррупционный континуум по определению означает наличие некоей «непрерывной» или «сплошной» среды. Все компоненты этой среды настроены на противодействие коррупции. И каждый из них передает в общее пространство выпадающую на его долю часть антикоррупционных импульсов. В своей совокупности они в конечном итоге способны привести к искоренению коррупции и исчерпать исходную проблему. Идея подобного континуума предлагается в качестве образа совершенного институционального обеспечения противодействия коррупции.
Рассматриваемый континуум, конечно, следует мыслить только в виде абстракции. В его движении в каждый момент времени на самом деле неизбежны пробелы и перерывы, за которыми стоят неразвитость или отсутствие некоторых звеньев. Отсюда предполагаются и «скачки» – в логике и на практике – при переходе от одного к другим компонентам среды, способным создавать эффективные импульсы. Все это ведет к ослаблению общего импульса и общей результативности движения в целом. Разрывы континуума преодолеваются в трудно обозримой перспективе, в процессе эволюционного развития, включающего и элементы сознательной политики. Но сама по себе абстракция континуума и оценки его реального состояния могут служить ориентирами для совершенствования теории и практики противодействия коррупции.
В то же время, не будет большим преувеличением или искажением действительности утверждать, что на сегодня такие значимые компоненты общества, обозримые и на бытовом уровне, как «общественное сознание» и «ценностные ориентиры», согласно нашим наблюдениям и даже по убеждению некоторых высших должностных лиц из правоохранительных органов и видных российских культурных деятелей, имеют в своем содержании прокоррупционные элементы. В свою бытность заместителя руководителя Следственного комитета России И.В. Краснов назвал среди фундаментальных источников коррупции «коррумпированность общественного сознания», «атмосферу, потворствующую коррупции» [6]. Другой не менее известный и уважаемый в российском обществе директор школы Е.А. Ямбург увидел глубокие корни «коррупции и прочих «прелестей» нашего века в искажении «нравственной шкалы ценностей» [18]. Возможно, они и есть самые заметные и важные из числа так называемых «перерывов или пробелов» в действии антикоррупционного континуума.
Если уж не все элементы общества, как в идеале, способны одновременно включиться в антикоррупционное движение, то гораздо легче себе представить, что хотя бы некоторые из них – прежде всего, «верхи» и «низы» – реально соединяются в этом движении. Подобное единение, пускай локальное, а не всеобщее, уже есть прогресс в системной институциональной поддержке борьбы против коррупции. «Верхи» и «низы» общества в данном случае для определенности могут включать в себя волю и влияние президента РФ, деятельность законодательных и исполнительных органов власти, хозяйственных структур различного уровня, региональных и муниципальных органов власти, некоторых слоев населения, а еще лучше – многих «сознательных и социально активных» граждан.
Уникальный пример или иллюстрацию как на практике может сложиться самый широкий «фронт» противодействия хозяйственной преступности, включая коррупцию, когда она «зашкаливает», демонстрирует наметившийся выход из современной ситуации, в которой находится лесохозяйственный комплекс страны. В этом комплексе вплоть до последнего времени теневой сектор занимал несколько десятилетий примерно его половину. В стране, в которой немногим менее половине регионов лесное хозяйство играет заметную, а в некоторых значительную и даже, определяющую, роль, государство почти полностью устранилось от контроля за состоянием леса и лесного хозяйства.
Рассматриваемую ситуацию президент России на многочасовом совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса характеризует следующим образом: «Жульничество процветало так, как никогда, расхищение просто зашкаливало, процветали хищнические, нелегальные вырубки» [9]. По результатам совещания главой государства были сделаны поручения по сохранению леса, реформированию отрасли и избавлению ее от нелегальных схем. Поручения президента были представлены в виде плана мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса. Основные пункты плана включили в себя полный запрет на вывоз хвойного леса «кругляка» и ценных лиственных пород, развитие комплексной переработки древесины и деревянного домостроения, расширение задач лесного надзора, возвращение его государству, создание единой системы учета древесины и сделок с ней и др.
В конечном итоге, реализация мероприятий плана позволит радикально изменить ситуацию в отрасли, сделать ее «прозрачной» для государства. Государство, как оказывается, до сих пор не знало (или мало знало), «что такое лес» как объект управления (по словам вице-премьера В. Абрамченко) [3]. Поэтому самый заметный вклад в достижение желаемой цели, на наш взгляд, должны внести единая государственная информационная система и возвращение надзорных функций за лесным хозяйством федеральному центру. На такой основе будут связаны в единое целое все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов – от заготовки на делянке с фиксацией движения заготовленного объема на склады и далее. Это позволит разорвать многие сложившиеся коррупционные связи и затруднить действие других подобных связей и предотвратить зарождение новых.
Все упомянутые мероприятия по развитию и декриминализации лесного хозяйства носят народнохозяйственный или межотраслевой и надрегиональный характер. Они принимаются и осуществляются по инициативе и при участии политического руководства страны, ее хозяйственных руководителей, региональных лидеров, представителей бизнес и юридического – сообщества. При этом к их разработке и реализации на разных этапах привлекаются другие самые разнообразные субъекты, – юридические, хозяйствующие, социальные, – находящиеся на более локальных уровнях служебной и социальной иерархии.
Занятая подобным образом позиция определяет соответствующий угол зрения – системный – на проблемы лесного комплекса, захватывая одновременно всю его проблематику, вытекающую из текущей жизнедеятельности со всей ее «начинкой», вне зависимости от того «белая» ли она, «серая» или «черная», реально или потенциально. Такой угол зрения в данной ситуации при всей своей масштабности и сложности является единственно уместным и результативным, как мы видели, при высокой, если не беспрецедентной, степени криминализации объекта, не контролируемой государством. Раз уже криминал встроен в систему лесного хозяйства, то обычные методы противодействия ему явно недостаточны и могут вести только к воспроизводству сложившегося положения.
В отличие от народнохозяйственного подхода к воздействию на лесной комплекс, который к тому же предполагает достижение разнообразных общественно значимых результатов, обычная позиция правоохранительных органов по отношению к проблемам комплекса сводится к «жесткому контролированию ситуации» преимущественно силами подразделений различного профиля, специализирующихся на противодействии преступности [2]. Конечно, при этом не исключается чаще всего эпизодическое подключение к решению возникающих проблем «контроля» органов власти различного уровня, руководителей хозяйственных организаций, общественности и др. В свою очередь «жесткое контролирование ситуации» выражается в первую очередь в «выявлении, расследовании и предупреждении преступлений, связанных с нарушением правил лесопользования». Вопрос только в том, какая доля таких нарушений реально находится в поле зрения и воздействия правоохранительных органов. На этот вопрос уже был дан исчерпывающий ответ на недавнем совещании у Президента по декриминализации и развитию лесного комплекса.
Системность подобного уровня и рода деятельности, например, с точки зрения Следственного комитета России, видится в «тесном взаимодействии» его служб с «оперативными подразделениями МВД России, прокуратурой и контролирующими органами», а также в организации «совместной работы следственных и налоговых органов, таможенных и природоохранных органов». Следовательно, она не выходит за границы внутриведомственных и межведомственных взаимодействий непосредственных участников и «смежников» совместной работы по «жесткому контролированию ситуации» в лесном комплексе. Она же задает, не может не задавать уровень и эффективность методологии и аналитической работы по «выявлению и устранению источников, причин и условий, способствовавших совершению преступлений», разработки «дополнительных механизмов профилактики».
Совсем незадолго до совещания по развитию и декриминализации лесного комплекса, проводимого Президентом РФ, председатель СКР доложил российской общественности в своем интервью «Российской газете» об успехах работы правоохранительной системы и своего ведомства в борьбе с криминалом в этом комплексе [2]. На фоне прозвучавшей оценки ситуации в отрасли главой государства как «зашкаливающего расхищения», любые декларации о позитивных достижениях названных ведомств должны рассматриваться, на наш взгляд, скорее, как их фиаско в деятельности по выполнению порученной государством функции.
Однако фиаско правоохранительной системы не есть главное в реалистичной оценке ситуации, сложившейся в лесном хозяйстве. Оно свидетельствует не просто и не только о беспомощности этой системы перед лицом беспрецедентной криминализации. Подобная беспомощность есть один из элементов общей деградации современного лесоустройства и связанных с ним систем хозяйства и общественной жизнедеятельности. Сначала фиаско претерпевает вся система хозяйства лесного комплекса как звена народного хозяйства и общества, а уже потом в этом же русле следует приспособленная к ним правоохранительная система. Теперь же всем функционерам «жесткого контроля ситуации» упомянутой выше системы придется перестраиваться в соответствии с новыми условиями своей деятельности.
Любой вариант системного изображения объекта, в нашем случае хозяйственного, будет незаконченным, а его системность ограниченной, если не поместить данный объект в социальный контекст, в известную общественную среду и восстановить оборванные связи с обществом при рассмотрении чисто хозяйственной системы в отрыве от социальной проблематики[1]. Это позволит выйти на новый уровень системности в рассмотрении проблем леса [12]. Крупный «разрез» для целостного видения объекта является недостаточным, а тем более для решения многих, прежде всего, практических задач, если не уделить должного внимания самым малым его элементам, элементам микроуровня, находящимся на самой «глубине» общественной жизнедеятельности. Его составляет активность многих и многих людей – граждан, которые в своей деятельности и взаимодействиях и образуют то, что мы называем «гражданским обществом».
Лесное хозяйство в широком смысле включает в себя не только деятельность его непосредственных участников, но и процессы буквально всей жизнедеятельности жителей лесных районов. Рассматриваемая деградация лесного хозяйства проникла во все его поры, дошла до самого микроуровня, образовав деформационные трещины, искривляющие нормальные процессы человеческих взаимодействий и жизнедеятельности. Даже после положительного решения основных макрохозяйственных проблем они не могут исчезнуть сами собой, автоматически без участия «низов», самого населения. Процессы переделки ежедневных взаимоотношений совершаются труднее, поскольку требуют не столько материальных затрат, сколько организационных и моральных, преобразования мышления, развития общественной солидарности и самоорганизации. Хотя их могут облегчить и «подтолкнуть» импульсы, идущие «сверху».
Одну из самых поразительных историй, иллюстрирующих «трещины» на уровне лесного микрохозяйства, – хищническую эксплуатацию леса, глубину и разветвленность коррупционных связей, отсутствие эффективного противодействия им, попустительство – демонстрирует пример из жизни таежного Прииртышья Тарского района Омской области. Ее жительница, учитель географии Жукова Людмила Алексеевна в одиночку встала на защиту леса – уникального соснового бора [4, 5]. Она вступила в борьбу с отлаженной годами и работавшей бесперебойно схемы рубки, заготовки и уничтожения леса под видом санитарных вырубок, главными участниками которой были «черные лесорубы» совместно с арендаторами и под их прикрытием. Они оказались сильнее и хитрее любой власти, включая в первую очередь «лесную» и местную власть, местную полицию.
Эта борьба продолжалась целое десятилетие. Наиболее заметные ее события: неоднократные поджоги дома учительницы, прямые угрозы ее жизни и родственникам, происходящие при молчании и пассивном присутствии других зависимых от дров и работы местных жителей; заявления об этих действиях, которым не давали «ход»; просьбы о помощи во все инстанции, неизменно заканчивающиеся неудачей, наталкивающиеся даже на угрозы и противодействие тех, кто должен защищать лес; безрезультатные приезды разнообразных комиссий.
Ситуация развернулась в обратную сторону только после того, как о беспределе в Прииртышье благодаря Общероссийскому народному фронту и журналистам узнали вся страна и Президент России. Возбудили ряд уголовных дел, в том числе о поджоге, а арендаторов леса впервые в России приговорили к реальному лишению свободы. Уникальному уголку тайги вернули статус особо охраняемой территории, а учительницу Жукову взяли под государственную охрану.
Только на торжество справедливости и полностью благоприятное разрешение данной ситуации (и многих других подобных), как может показаться на первый взгляд, вряд ли следует рассчитывать. Все равно останется «привкус» недоделанного: не все творцы и участники деформированных лесных отношений на локальном участке этих отношений получили должную оценку своей деятельности или, наоборот, бездеятельности. Как отмечает тот же корреспондент «Российской газеты», «повязали простых исполнителей для отвода глаз и вновь принялись за свое». Например, одному из прежних арендаторов вернули лес, при должности остались многие ответственные функционеры, не «замечавшие» нарушений и потворствующие им. Президент же «далеко»: он не может видеть реального положения дел, «всю» лесную реальность. Да и такой одной позиции, позволяющей ее видеть, просто не существует. Согласно, например, другой версии интерпретации событий в лесной отрасли имеет распространение «некая иллюзия, что в лесу в России полный беспорядок. На самом деле там довольно четко все регламентировано, и любые нарушения рубок немедленно караются» [16]. А совладелец группы «Илим» Захар Смушкин называет программу декриминализации лесной отрасли «скоропалительной» и представляет ее «набором быстрых бюрократических мер» [15].
Рассматриваемая ситуация раскрывает, на наш взгляд, самый существенный пробел в континууме противодействия коррупции, институциональном его обеспечении. Названный пробел – это почти неиспользуемый антикоррупционный потенциал, имеющийся в «глубинном народе», «непосредственной демократии», «стандартах нормальности», «национальной культурной идентичности», «гражданском обществе», «общественности», «гражданских институтах» и др. Генеральный прокурор России И.В. Краснов, например, констатирует, что «на настоящий момент, к сожалению, вклад общественности в выявление коррупционных преступлений не столь значителен. Отчасти это происходит из-за того, что граждане не сообщают о конкретных фактах коррупции, так как чувствуют угрозу» [7]. Возможно, на наш взгляд, есть и др. причины отсутствия видимой активной «гражданской позиции» у населения. В нашем случае люди боятся даже выразить сочувствие тем, кто активно противостоит нарушениям. Согласно позиции И.В. Краснова, эффективность борьбы с коррупцией, особенно в плане ее выявления, может быть существенно повышена, если в этом процессе примут участие не только власть, но и «гражданские институты». И эту позицию мы полностью разделяем.
Сегодня все перечисленные выше понятия выглядят как актуальные, «правильные» и модные термины, которые все чаще используются в лексиконе журналистов, гуманистически ориентированных исследователей и даже многих политических деятелей, функционеров государства. Каждый из пользователей данного лексикона должен в зависимости от принятой им позиции заложить в его содержание конкретный, а еще лучше, предметно-зримый образ, способный придать ему чувственно воспринимаемый смысл. Иначе это содержание легко выродится в чистый формализм лозунга, простого ярлыка или клише.
Тем не менее, любой из названных терминов в принципе в состоянии выразить своим содержанием различные аспекты общественной жизни живых – мыслящих и чувствующих индивидов, которую невозможно исчерпать ни одним из них взятым в отдельности. Отсюда неоднозначность их содержания, которое невыразимо полностью чисто логически. Поэтому все продуктивные попытки опереться на конкретное содержание термина, сделать его опорой для мышления реальности неизменно будут включать в это содержание некоторый чувственный момент, а именно, общественной чувственности, точнее, общественно значимое чувство. Необходимо только иметь в виду, что именно индивиды являются единственными носителями обозначенного чувства. Именно индивиды во взаимодействии друг с другом (реальном и идеальном) способны переживать свою принадлежность к некоторому более широкому, чем ближайшему (семья, локальная группа) целому.
Основное общественно значимое чувство, как мы полагаем, – это чувство единства, единения, солидарности людей, участвующих во взаимодействии. Дифференцировать человеческую чувственность вообще представляется крайне сложным делом. Произвести же даже простую диагностику, а тем более дифференциацию общественной чувственности – почти безнадежное занятие. С некоторым успехом это может получиться разве что для крайних случаев, например, принципиального различения добра и зла. Правда, при этом придется учитывать тонкости их «взаимного перехода».
Одна из отличительных свойств коррупции – ее разрушительное воздействие на любую форму общественного единения, человеческой солидарности. Содержание коррупционных отношений включает в себя стремление их участников договориться за спиной остальных людей и государства о некоторых привилегиях для извлечения собственной выгоды. В связи с этим наибольшим антикоррупционным потенциалом обладают любые меры поддержки и укрепления всего многообразия форм проявления и существования солидарности в обществе, препятствующих подобного рода соглашениям. В числе таких форм самыми массовыми, заметными, крупными и действенными являются реальные местные самоуправления, консолидированные профессиональные сообщества, корпорации с «сильной» организационной культурой и др. На наш взгляд, по сравнению с их влиянием на создание противодействующих коррупции эффектов прямая пропаганда желательных для государства и общества настроений в надежде создать с ее помощью атмосферу неприятия коррупции представляется малоэффективным занятием.
Самый «близкий» пример зарождения общественной солидарности на локальных участках общественной жизни – события, происходящие после позитивного разрешения ситуации вокруг уникального соснового бора в Прииртышье. «Односельчане начали меня поддерживать, – сообщает учительница Жукова, – ведь бор удалось отстоять. Мужики подходили, жали руки, благодарили… Можешь на нас рассчитывать» [4]. Другой пример влияния «глубинного общества» на «чистоту» и прозрачность «локальных» общественных отношений – инкорпорация присяжных заседателей в деятельность судейского сообщества. Их основная позиция – позиция независимых людей, которые при выполнении порученной функции не имеют никакого специального внешнего руководящего интереса: ни карьерного, ни материального и др. Главная забота состоит в том, чтобы не допустить наказания невиновного. С этой консолидированной позицией приходится считаться и власти, и профессиональному юридическому сообществу. Классической иллюстрацией намечавшейся, но несостоявшейся коррупционной сделки может служить массовый и публичный протест студенческой группы против поборов со стороны вузовских преподавателей или, наоборот, отказ преподавателей принимать собранные активистами-студентами деньги. Очень часто подобный протест чаще всего остается без всякой внутренней и внешней «подпитки».
Не подлежит сомнению, что только единство чувства, мысли и действия участников общности позволяет достичь желаемого и полезного для всех результата. Но разделяемое ими чувство при этом имеет самостоятельное значение. Оно не просто «присутствует», «сопутствует», «соучаствует» в действии, а предваряет или предвосхищает и самое действие, и его результат. При отсутствии чувства солидарности любая индивидуальная инициатива может заглохнуть. Самые лучшие перспективы эта инициатива получает, если ее поддерживают «вся страна», президент, министры. руководители предприятий и организаций, региональные и местные власти, следователи и прокуроры, инспекторы, профессиональные и корпоративные, местное сообщества, коллеги по работе, пускай даже родные и близкие люди и др.
В свою очередь общественность, которая в своем движении опирается на индивидуальные инициативы, усилия и действия только при таком условии становится эффективно действующей силой. Общее получает значение и силу через частное, а частное – через общее. Именно таким образом работает любая система, устроенная для достижения некоторого общего или общесистемного результата.
Другой важный вопрос для продуктивного функционирования «глубинной» общественности – насколько прочной может быть рассматриваемая связь общественного и индивидуального, каким-то образом приобретающая необходимую прочность и способность к надежному воспроизводству. Чувственные составляющие в ее воспроизводственном механизме, например, упоминаемая выше общественная солидарность, сами по себе, хотя и необходимые, вряд ли могут считаться надежной опорой. В качестве основного звена этого механизма М. К. Мамардашвили выделяет форму «публичности». Содержание названной формы может быть сведено к многообразию внешних выражений или проявлений «движения души» в общественном пространстве [10]. По его замечанию, «переживание какого-то живого чувства … требует публичности для своей реализации». Лишь участвуя в гражданских делах, человек впервые отчетливо осознает содержание своих желаний, мыслей, действий и т.д.
Согласно М.К. Мамардашвили, «добро», включая множество полезных и важных для общества побуждений, не реализуется само собой, естественным образом. Для присутствия его в мире обязательно необходимы «усилия», «труд». И эти усилия не только индивидуальные, но, что не менее важно, совместные и согласованные, усилия многих людей, происходящие в форме «социальных связей». При осуществлении последних невозможно обойтись без использования обеспечивающих их «инструментов», «устройств», «конструкций», «институций» (Мамардашвили М.К.), назначение которых состоит в «подталкивании» человека к «возвышению». Возвышение выражается в том, что как отдельный человек, так и люди в своей совокупности направляются на достижение социально значимых результатов, которые каждый в отдельности не мог бы достичь. Только при этом каждый, в конечном итоге, сам находит формы, пригодные для себя формы приложения своих сил, а еще лучше, созвучные его «душе» [10, с. 54 – 84].
Вся проблематика обеспечительных мер по «подталкиванию к возвышению» человека, в нашем понимании, должна быть увязана с институциональной организацией общества. Понятие института является базовым для выделения любых детализаций в сфере «возвышения человека». Возможно, в современном обществознании институты это – самые крупные общественные образования или элементы общества. Смысл введения рассматриваемого понятия в научный оборот, как он трактуется в так называемой «новой институциональной теории», заключается в его использовании для объяснения способности общества и государства добиваться определенности в поведении индивидов, учитывая необходимый элемент произвольности и своеволия в этом поведении [19, 20, 21, 22].
Мы представляем общественный институт в виде совокупности институций, назначение которых – гарантировать надежное осуществление важных для общественной жизнедеятельности функций. Важнейшие из институтов и лежащих в их основании функций связаны с образованием, здравоохранением, культурой, политикой, семейной жизнью и др. М.К. Мамардашвили, например, специально выделяет правовые и этические институции. Чаще всего эти институции представляются в виде совокупности соответствующих норм. В свою очередь каждая из норм может также называться институцией и даже институтом.
Классический вариант нормативного подхода к описанию института разработал Дуглас Норт – лауреат нобелевской премии по экономике 1993 г. [23]. В принципе институтами, по Д. Норту, называются «все формы ограничений, созданных людьми для того чтобы придать определенную структуру человеческим взаимоотношениям». В более развернутом определении устройство института включает формальные и неформальные нормы, а также «способы и эффективность обеспечения их соблюдения».
Последнее определение показывает, правда, в самом общем виде, каким образом общество и государство в принципе приобретают способность добиваться своего «правильного» функционирования. Полный набор эффективно действующих институций для каждого института, точнее, институционально устроенной социальной системы, в идеале создает все необходимые и достаточные условия для такого функционирования. Отсюда вытекают также осмысленные ориентиры для оценки качества институционального обеспечения противодействия коррупции и достижения желаемой системности в антикоррупционной политике.
Как мы полагаем, коррупция как таковая не образует никакой специфической пусть даже некоей негативной социальной системы. По своей сути – это нарушение нормального функционирования или дисфункция социального института, вызванная его «порчей». Порче оказываются подвержены, прежде всего, образующие институт его элементы или институции. Еще с древних времен известно, например, что в институте судейства самым серьезным пороком считалось мздоимство, при котором рассматриваемые дела решались с нарушением и в обход установленных норм судопроизводства. При этом решающее значение приобретали внеправовые правила. В другой сфере общественной жизнедеятельности обладание привилегиями приводит к «самому худшему виду политической коррупции – к произволу» [10, с. 172]. Произвол или ведение дел исключительно по собственному усмотрению, означает отказ от использования любых заранее установленных правил. Это есть окончательная порча соответствующего института, его разрушение.
В рассматриваемой ситуации понятие нормы перестает играть роль основного ориентира деятельности. Оно утрачивает свою ясность и для государства и, самое главное, для общества. В таком обществе вопрос о том, что есть норма, а что – ее обход и нарушение, что есть свет, а что есть тень, не имеет внятного ответа [13]. Ощущение и осознание отсутствия естественности присутствия нормы в жизни общества – надежный симптом массовой порчи социальных институтов.
В испорченном институте происходит перестройка структуры. Институции, обеспечивающие эффективную реализацию основной функции социальной системы, утрачивают свое доминирующее значение. Их место занимают другие институции, не имеющие непосредственного отношения к реализации этой функции, или имеющие второстепенное значение или даже противоречащие и мешающие ей. Социальная система с испорченной институциональной структурой начинает производить неприемлемые или негодные для общества результаты, в первую очередь выражающиеся в снижении ее эффективности по всем направлениям деятельности – социальному, экономическому, политическому, техническому, этическому, правовому. Хотя симптомы порчи могут проявить себя в каждом из указанных направлений по-разному, просто в одних сферах они могут быть заметнее и замечены раньше, чем в других.
Современное российское общество доросло до понимания необходимости коррекции многих «испорченных» социальных систем, хотя подобное понимание растянуто во времени. Это показывают неоднократные попытки преобразования систем среднего и высшего образования, здравоохранения, науки. На очереди дня – культура, спорт и др. Известный советский и российский спортсмен, ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что если говорить о футболе и хоккее, то «все, что там происходит, это путь в никуда» [16]. И далее добавляет: «Нет равных возможностей, нет честной состязательности. Все решают блат, деньги, какие-то мутные схемы…».
В переломных ситуациях, когда преобразования назрели, в коррекции нуждаются и отдельные элементы проблемных системных образований, и каждая социальная система в целом. Но основным объектом коррекционного воздействия является именно социальная система в целом. В подобных ситуациях, как правило, не удастся обойтись только исправлением отдельных аспектов ее функционирования. Иначе заметного оздоровительного эффекта достичь невозможно. Как, например, это происходило на протяжении многих лет в рассмотренном выше случае лесного комплекса.
Конечно же, противодействие коррупции в данном примере не является самым важным и даже вряд ли может считаться самостоятельным направлением модернизации. Но в любом случае эффект оздоровления от предпринимаемых действий не может не иметь всестороннего значения уже в силу масштаба и качества задействованных государством ресурсов. К тому эти действия наверняка подтолкнут общество, чтобы объединить свои ресурсы и силы с государством к движению в уже выбранных государством направлениях. Едва ли следует ожидать, что государство задействует такие же ресурсы исключительно во имя антикоррупционного воздействия, даже при условии осознания его общесистемного значения. Обычные действия государства в рассматриваемой сфере сводятся к различным частностям, например, поправкам в законах и др. нормативных актах, изменениям в руководящих персоналиях и пр.
Концентрация внимания на объекте в целом позволяет рационально задействовать государственные, корпоративные и общественные ресурсы и способствует достижению множества полезных результатов по большинству направлений его функционирования. Но при таком подходе основной проблемой являются сами размеры объекта. Любая активистская политика по отношению к «большим» системам легко превращается в «стрельбу по площадям» в отсутствии «тонкой ее настройки», при которой различимы детали объекта, а тем более их системное значение, соответственно, с потерей ее эффективности.
Если объект воздействия – большая социальная система, а таковыми наверняка являются все известные, названные и даже еще неназванные, общественные институты, – то для нее затруднительно или даже невозможно точно определить границы и даже, что самое главное, выполняемые полезные для общества функции. А это также означает неспособность определиться и с институциональным устройством социальной системы, т.е. в конечном счете, представить ее в виде совокупности институций, обеспечивающих нормальное воспроизводство основной и других функций системы. При этом необходимо также учесть, что речь должна идти не просто об общем назначении конкретного социального института, а о его актуальных функциях, определение которых всегда находится в движении, проблематично и при наступлении новой исторической ситуации нуждается в корректировке, раз изменились условия общественной жизни.
Наличие некоторых пределов для оказания административного воздействия на социальную систему в целом в принципе не исключает возможность результативности такого воздействия при соблюдении соответствующих условий. Условия заключаются, прежде всего, в следовании принципу конкретности в представлении функции и институционального устройства объекта воздействия. Поскольку обозначенные условия не так часто удается соблюсти, постольку на роль основного объекта такой политики выдвигаются локальные социальные системы, для которых проще всего выполнить заявленные требования.
Более того, современность при помощи публицистики демонстрирует множество иллюстраций, когда институциональная форма используется в связи самыми дробными элементами разнообразных социальных объектов. Например, в качестве институциональных новообразований называются отдельные правовые нормы, их совокупности, уголовно-правовая новация (институт уголовного проступка), элемент судопроизводства (институт судов присяжных), элементы культурного пространства (институция выставки) и др. При этом оказывается очень затруднительно определиться с содержательной стороной используемой институциональной формы. В большинстве приводимых примеров, как правило, наиболее отчетливо просматриваются собственно правовые, культурные и т.п., организационные, технические или технологические аспекты этого содержания. Но если даже в самом расширительном смысле толковать подобные и др. рассматриваемые аспекты, на которых в данный момент сосредоточено внимание, то в любом случае вряд ли удастся исчерпать всю возможную и необходимую содержательную институциональность.
Учитывая разнообразие вариантов работы с институциональной формой в принципе невозможно избежать отмеченных затруднений, связанных с неопределенностью ее содержания. Само понятие общественного института является попыткой схематизации бесконечности общественной жизни и систематизации многообразия факторов, воздействующих на общественную активность людей и определяющих их поведение. Бесконечность общественных явлений, помещенная в институциональные границы, не перестает быть таковой, хотя и превращается в удобную для мыслительной работы форму. Проблема только в том, сохранилась или не сохранилась память об этом упрощающем умственном действии.
Любой уже выделенный силой абстракции социальный институт с оборванными «лишними» социальными отношениями все равно остается в реальности мириадами нитей связанным со всеми другими общественными явлениями – институтами. А вот эти «лишние» связи при рассмотрении каждого конкретного общественного явления обязательно напомнят о себе в виде неопределенности институционального содержания. Например, одно из самых простых предлагаемых институциональных новообразований, уже упомянутый «институт уголовного проступка», вряд ли удастся свести к какому-либо точно фиксируемому содержанию. При более детальном рассмотрении в его «институциональных глубинах» обязательно обнаружатся идущие от назначенной институциональной формы многочисленные и разветвленные включения в так называемый «символический универсум» [19].
В первом приближении символическое пространство вбирает в себя все многообразие жизни общественного сознания с направляющими его институтами. Оно служит источником смыслообразования для любых человеческих дел, ориентирует индивидов в их отношениях с другими людьми, малыми и большими их общностями, к своей деятельности, в понимании самих себя, смысла жизни и др. В каждой конкретной ситуации своей жизнедеятельности вовлеченный в это пространство индивид не может обойтись без субъективных, личностных, облаченных в символическую форму интерпретаций конкретики бытия. Тем самым в нее привносится неустранимый момент индивидуального, а возможно и группового, своеволия и даже произвола, что делает результаты совместной деятельности непредсказуемыми.
Сама идея полного институционального контроля индивидуального поведения в реальности недостижима. Она дает только ориентир, направление и технику для анализа конкретных ситуаций и решения общественных проблем, но никак, и никогда не окончательный их диагноз и решение. Для реализации названной идеи требуется достижение полного подчинения индивида движению общественной функции, к выполнению которой призван конкретный институт. Никакие наличные формы внешнего контроля для этого недостаточны: формальные и неформальные нормы, механизмы принуждения к выполнению норм, включая организационные и технические средства. Хотя и они все также включаются в институциональную систему координат. Одну из таких координат составляет также упомянутый символический универсум. Помимо всего этого институциональный контроль предполагает самоконтроль индивида. Для его успешного осуществления требуется «интернализация» или «овнутрение» выполняемой функции. В данном случае общественная функция воспринимается и выполняется индивидом как форма его собственной жизнедеятельности, с полной самоотдачей.
Выше, в самом начале статьи, было обозначено в виде проблемной ситуации отсутствие системной институциональной поддержки антикоррупционной практики, которое можно выявить чуть ли не в любом даже самом «решительном» мероприятии этой практики. Именно отсутствие подобной поддержки не позволяет достичь в противодействии коррупции необходимой систематичности, которое и превращает это противодействие в простой набор слабо связанных друг с другом мероприятий, несмотря на периодически демонстрируемую их успешность. Подобное отсутствие как раз и придает рассматриваемой практике налет поверхностности и формализма.
Модель порчи социальной системы под воздействием коррупции одновременно раскрывает и сущность коррупции, и позволяет достигнуть понимания, каким образом в принципе возможна и достижима системность в противодействии коррупции. Модель демонстрирует предельный случай, ситуацию, требующую признания коррупции системной проблемой, в которой нарушается нормальное функционирование социальной системы. Сложность и одновременно перспективность сознательного использования названной позиции заключается в том, что любое «крупное» антикоррупционное действие может или даже должно иметь своим результатом оздоровление всей системы и каждого аспекта ее функционирования. В то же время воздействие на систему в целом как таковое не может не иметь в качестве своих следствий множество антикоррупционных эффектов.
Коррупция как таковая, с формальной стороны не является необходимым элементом системы и никаким образом непосредственно не связана со спецификой каждой из рассматриваемых социальных систем. Поэтому коррупционную их составляющую возможно рассматривать и представлять каким угодно образом: и как вторичную, и как зависимую или производную от других элементов системы, или им сопутствующую компоненту, которая встраивается каким-то образом в систему и вызывают ее порчу. Поскольку порча системы уже произошла или еще происходит, постольку результатом этих процессов является разрушение ее институционального обеспечения или институций, необходимых для нормального функционирования. Отсюда же естественным образом вытекает требование ревизии и коррекции всех институций системы или, по меньшей мере, самых проблемных.
Фундаментальный институциональный срез социальной системы, пораженной коррупцией, должен проходить по границам системы и всем ее институциям независимо от их юридического значения. Коррупция как общественный феномен – подобная трактовка уже давно превратилась в банальность в ее характеристике – в своей «глубине» содержит большей частью институциональные элементы как раз, не имеющие юридического значения. Речь в первую очередь должна идти о моральных, профессиональных, групповых, любых других неформальных и социальных нормах, символических аспектах действия юридических элементов, например, состояния правосознания населения, правоприменителей, законодателей, личностные отношения индивидов и др.
Только совокупность институций, составляющих институциональную структуру социальной системы, в состоянии обеспечить ее нормальное функционирование и достижение требуемых от системы социальных результатов. Выполнение каждой институцией своего предназначения в механизме институционального контроля позволяет, в конечном итоге, решить главную задачу этого механизма – внести определенность в поведение индивида и направить его деятельность в русло осуществления функций системы. Основное препятствие, стоящее на этом пути и чаще всего акцентируемое институциональной теорией, – добиться согласованного действия формальных и неформальных норм. Ведь формальные нормы, не имея под собой твердой опоры в виде, например, стереотипов обыденного поведения, в массе своей лишались бы необходимой действенности.
Другая, еще более сложная проблема для достижения действенности формальных норм, на которую гораздо меньше обращается внимания, состоит во включении механизмов самоконтроля индивида. В их отсутствии индивид всегда найдет возможность уклониться от соблюдения норм или создать видимость правомерного поведения. Точно также, не придав должную направленность всему институциональному «шлейфу» социальной системы, включая и его символическим составляющим, никогда не удастся добиться ни упомянутой действенности формальных норм, ни системной институциональной поддержки противодействия коррупции, ни, следовательно, эффективности этого противодействии. В сложившихся условиях становится проблематичной и работа механизмов внешнего принуждения к выполнению норм, необходимых для нормального функционирования социальной системы.
Последний важный аспект, рассматриваемой проблемы оставшийся не затронутым, заключается в том, что формальные нормы, как правило, создаются, корректируются и их действие контролируется, как правило, административным путем. В то же время неформальные составляющие институциональной системы, включая ее символические элементы, в очень малой степени поддаются сознательному влиянию. Они формируются и корректируются большей частью культурно-историческим процессом. Его результаты осознаются, как правило, «задним числом», апостериори. Практики сознательного влияния на культурно-исторический процесс и приведения в соответствие с ним установленных административно норм, большей частью фрагментарны и неэффективны. В связи с этим следует накапливать опыт, прежде всего, успешных практик в рассматриваемой сфере, разрабатывать и в связи с этим совершенствовать необходимый теоретический инструментарий.