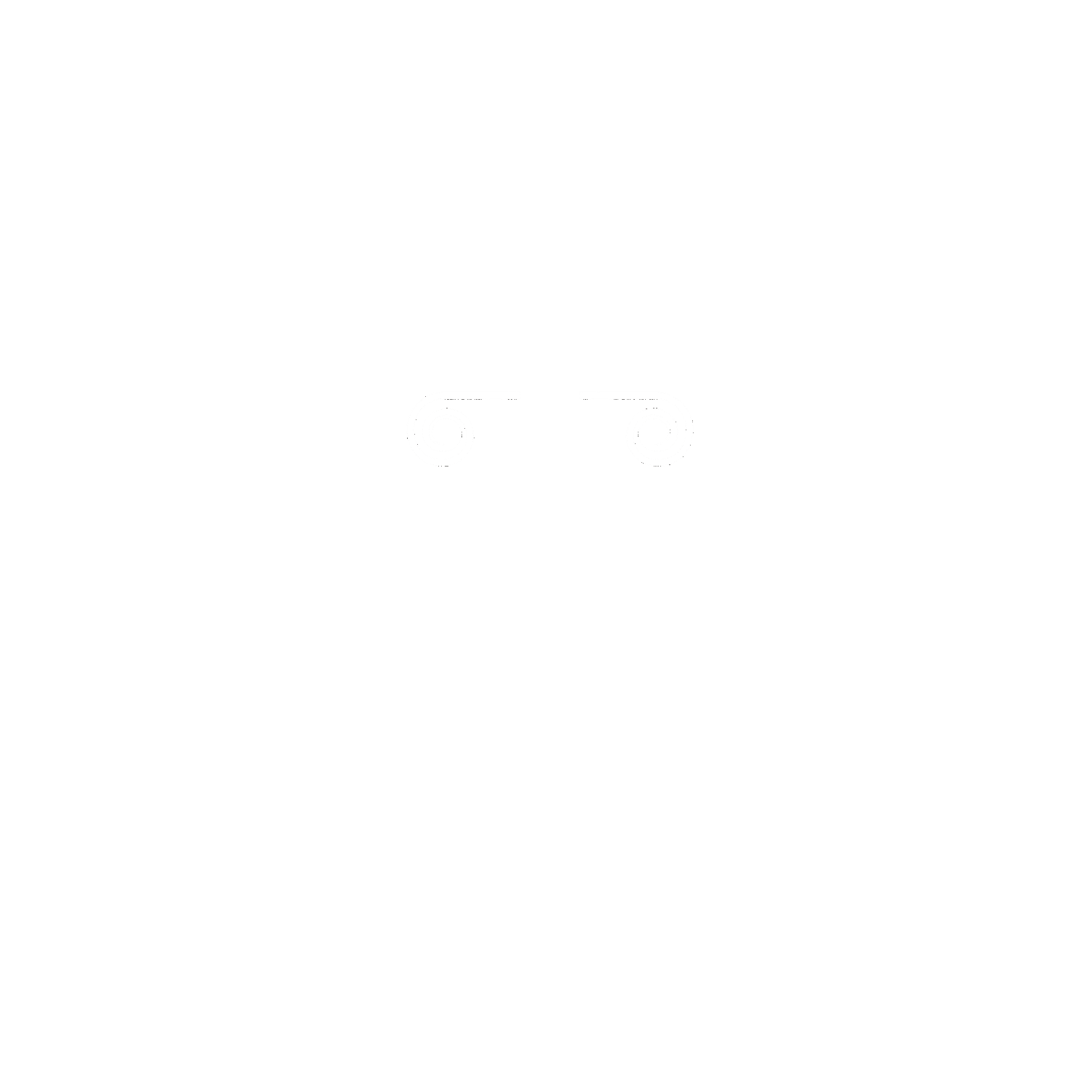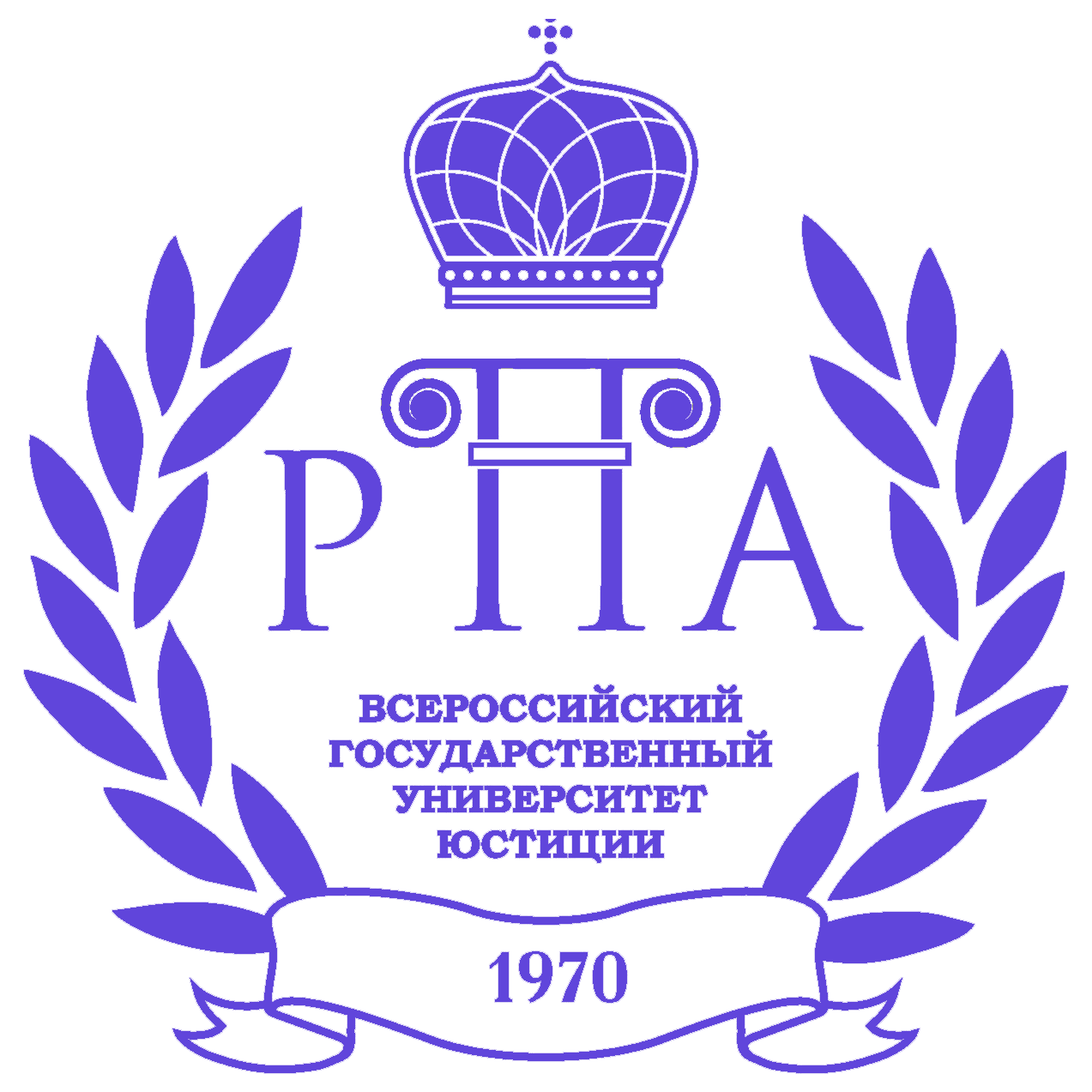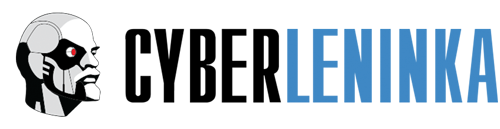Всегда с конкретным порядком
в понятийно-правовом отношении
связано и конкретное местоположение.
К. Шмитт («Номос Земли»)
Введение
Основанием для создания Шмиттом теории «больших пространств» послужила американская доктрина Монро (1823), поступательная эволюция которой привела к распространению и пересмотру ее принципов далеко за пределами США, что и послужило в конечном итоге установлению «американского» типа империализма: «… из исторически и географически оправданной идеи большого пространства, из наиболее успешного международно-правового (антиколониального) принципа доктрина Монро превратилась в агрессивно-империалистический, универсалистски мыслимый мировой принцип, претендующий на «повсеместное распространение» [11, с. 507].
Геоисторический анализ, предложенный Шмиттом в «Порядке больших пространств», показал, что, оторвавшись от «конкретного большого пространства», доктрина Монро в ее не ограниченном одним государством варианте, приобретает «деформированный, колониальный, империалистический смысл», ревизия которого возможна лишь при условии изменения содержательного наполнения самого понятия «большое пространство».
Для Шмитта, в отличие от представителей современной международно-политической науки[1], большое пространство подразумевает не количественный (размер), а качественный – организованность, консолидированность, освоенность, интегрированность – и конкретный (географический) смыслы. По мнению Шмитта, именно качественный и географический признаки больших пространств делают последние субъектами мировой политики, способными в будущем выстроить эффективную систему международного права и установить «новый мировой порядок». А в качестве ретроспективного примера большого пространства немецкий правовед и философ предлагает рассматривать империю (на примере Первого рейха), характерным признаком которой является (конкретный) порядок.
К. Шмитт: причины обращения к теме средневековой Европы
«Номос Земли в праве народов jus publicum Europaeum» – один из тех трудов Карла Шмитта, в котором немецкий философ уделяет европейскому христианскому Средневековью (и, в частности, Священной Римской империи) особое внимание. Причин этому как минимум две.
Первая связана с тем, что в «Номосе» Шмитт постулирует основные принципы международного права, и, несмотря на то, что средневековое право, предполагавшее соблюдение некоторых важных правовых норм (в процессе захвата земли, инициирования войны, заключения мира, перемирия, пленения и т. д.), не могло рассматриваться как истинное право народов, оно, тем не менее, было прообразом современного международного права Европы: «… межгосударственное европейское право XVI–XX вв.: возникло в результате распада средневекового порядка, поддерживавшегося императорской и папской властью …» (курсив наш. – Б. А.) [12, с. 29].
Вторая причина, связанная с первой, – уверенность Шмитта в том, что именно европейское Средневековье являло собой доглобальный пространственный порядок, характеристикой которого выступает осознание своего пространства как мира (дома, космоса), отделенного физической границей от другого пространства, где царит не-порядок (беспорядок) и которое исключено из зоны правового поля, а значит открыто для захвата его земель: «Такое слово как “мир” … живет в мысли о порядке немецкого Средневековья всегда местно и тем самым конкретно: как мир в доме, как мир на рынке, сохранение мира в замке, мир вещей, церковный мир, общественный мир»2 [11, с. 571].
Апелляция к этому периоду европейской истории видится Шмитту крайне важной, поскольку «… без знания проявлений остаточного влияния этого средневекового христианского пространственного порядка невозможно правильное историко-правовое понимание развившегося из него межгосударственного международного права» [12, с. 29].
Об определении и соотношении понятий «(большое) пространство – (конкретный) порядок – рейх – империя»
Возможность проследить преемственность идей Шмитта о «больших пространствах» в рамках сегодняшних политико-правовых дебатов удается не так часто: для осмысления категории пространство современные специалисты в области международных отношений гораздо чаще пользуются словосочетанием политическое (или даже многомерное) пространство, а в качестве актуальных рассматривают теорию Ф. Ратцеля с его законами территориального роста, панрегиональную концепцию К. Хаусхофера или предложенную Ф. Науманном в качестве средства разрешения большинства глобальных проблем «свободу принятия решений».
Отнюдь не пытаясь умалить роль вышеназванных исследователей и их вклад в современную глобалистику, автор статьи склоняется к мысли о том, что новый категориальный аппарат, предложенный Шмиттом в его теории «больших пространств», а главное – сама теория – остаются без должного обсуждения с их стороны.
В исследованиях по международному праву и международным отношениям традиционно используются такие понятия, как глобализация, деглобализация, глокализация, панрегионализм, которые нередко «оказываются недостаточными и позволяют сделать слишком мало», чтобы «по-новому мыслить политическое пространство» [5, с. 42]. Исходя из этого автор статьи считает необходимым вкратце репродуцировать предложенные Шмиттом интерпретации тех понятий, которые составляют «пространственный» вокабуляр его теории, и по возможности сопоставить некоторые его части с толкованием современных интерпретаторов.
В «Порядке больших пространств» Шмитт сознательно избегает пользоваться понятием государство, считая, что оно не вполне соответствует актуальному состоянию политического пространства и не может быть применено по отношению к таким влиятельным политическим единствам, какими он видит империю и рейх. Для характеристики этих политических образований Шмитт использовал понятия (большое) пространство, (конкретный) порядок, политическая идея, номос, изменив и одновременно расширив понятийное поле политико-правового учения об истории европейской государственности и создав на его основе политико-правовую философию пространства и порядка.
Пространство – (конкретный) порядок. «Порядок больших пространств» Шмитт посвятил исследованию понятия пространства, рассматривая его сквозь призму международного права. Профессор А. Ф. Филиппов назвал эту работу Шмитта «более радикальной и теоретически более откровенной, чем его позднейшие публикации» [5, с. 45]. Элементом ее теоретического напряжения (которое по понятным политическим причинам отсутствует в «Номосе», изданном в 1950 г.) Филиппов считает выдвинутое Шмиттом обвинение юристов еврейского происхождения в «неправильном» понимании пространства. В качестве основной причины этой ошибки немецкий ученый называл отсутствие у еврейского народа собственной почвы, постулируя в качестве не требующего доказательства следующее положение: не имея собственной почвы, невозможно осознать связь между ней и тем, кто на ней живет.
Еще одним виновником радикально ложного понимания пространства Шмитт считает нормативизм, в рамках которого к пространству применяются абстрактные, оторванные от конкретных единиц, мерки.
Объектом критики в этой работе Шмитта становится и чисто позитивистское видение пространства, когда для его определения пользуются логикой упрощенного силлогизма: право обращено к людям; люди находятся в пространстве, значит право имеет связь с пространством: «Иначе говоря, пространство тогда предстает как пустой контейнер, в котором любое место может быть заполнено людьми, к которым, в свою очередь, могут быть обращены приказы» [Цит. по: 5, с. 45].
Для Шмитта очевидно, что ни нормативистское, ни позитивистское толкование пространства не в состоянии определить его политико-правовую природу, а значит не в состоянии и переосмыслить его содержательное наполнение в рамках современного международного права. Шмитт понимает пространство как рамочное понятие, ограниченное конкретным порядком. Следует, однако, сразу признать, что понятие порядка нередко используется в исторических исследовательских текстах, но то, как интерпретируют это понятие их авторы, существенным образом отличается от интерпретации Шмитта.
Отслеживая тенденцию преемственности идеи империи в целом, австрийский публицист Ф. Хеер обыгрывает оппозицию порядок – беспорядок применительно к Римской империи: «… при старом порядке человек жил в том, что римляне называли urbs deis hominibusque communis, – домашнем хозяйстве, общем для богов, людей, зверей, всех живых существ. Возможно, были времена, когда это хозяйство было в явном беспорядке… Этому великому сакрально-политическому порядку домашнего хозяйства постоянно угрожали или изнутри, или извне чужеземные захватчики, …которые были либо слишком сильными, либо слишком слабыми. И тем не менее все враги … этого порядка, стремились по-своему обновить его…» (курсив наш. – Б. А.). В дальнейшем Хеер и Священную Римскую империю толкует как «последнее проявление векового сакрально-политического порядка, в котором “боги”, люди, звери и все живые существа живут вместе под защитой одной или нескольких великих династий» [7]. Очевидно, что и в первом, и во втором случаях Хеер понятие порядка толкует расширительно, имея в виду не сам порядок, а «сакрально-политическую» упорядоченность жизнедеятельности человека, живущего общиной в ограниченном пространстве. Конец упорядоченности (порядку) приходил с началом войн, которые становились не просто банальной причиной наступления беспорядка, но неизменно приводили к обновлению порядка предыдущего.
Для Шмитта необходимость рассмотрения понятия порядок сквозь призму империи (рейха) делает его конкретным (конкретный порядок) и локальным (пространственный порядок). Атрибутивы конкретный и локальный коренным образом меняют само значение понятия порядок, придавая ему весьма многообразное толкование. Наиболее близким по теме нашего исследования мы считаем определение, данное Шмиттом и прокомментированное профессором Филипповым: «Конкретный порядок – это порядок совершения событий и размещения учреждений политической и правовой жизни, который невозможен не только безотносительно к пространству, но и в пустом безграничном пространстве» [5, с. 46].
При этом порядок всегда первичен, ибо именно он определяет пространство (а не наоборот). Что значит «определяет»? Характеризует? Обустраивает? Диктует правила организации? И то, и другое, и третье… Возвращаясь к теме Священной Римской империи, скажем: то, каким образом религиозный и светский институты власти отстаивали свой суверенитет, то, какие попытки предпринимались для сохранения единства власти императора и Церкви, что – или кто – влиял на перераспределение властных полномочий – все это – и еще многое другое – меняло «Первую империю», каждый раз по-новому характеризуя и ее пространство, и тот конкретный порядок, который в конце концов привел к ее разложению.
Пространство – политическая идея. С точки зрения международного права, считал Шмитт, политическая идея всегда предполагает пространство, и наоборот, в пространстве всегда заложена идея или принцип пространства. Осознание этого принципа народом (или представителями власти) пробуждает в нем (в них) потребность в реорганизации этого пространства в соответствии со своими потребностями (или амбициями). Данное обстоятельство доказывает ту или иную степень подвижности рамок пространства, которая, если и начинается с учреждения новых границ, то никогда не сводятся только к ним, а меняет порядок всего пространства. Нелишне повторить, что степень такого изменения различна и по-разному влияет на правовой статус пространства, которое в данном контексте уместнее именовать государством. Для Шмитта очевидно, что не любое пространство в статусе государства, даже при условии больших размеров последнего, может быть охарактеризовано как большое пространство. Не размеры государственной территории, а технические и хозяйственно-экономические достижения, направленные на усиление политического влияния, придают государству статус большого пространства [11]. Научно-технический прогресс, который имеет в виду Шмитт, обуславливает создание предпосылок для экономического взаимодействия между странами с целью объединения больших пространств и создания в дальнейшем единого центра принятия решений: «Если действительно судьбой человечества является техника, а не политика, тогда проблему единства можно рассматривать как решенную» [9].
Рейх. В «Номосе» Шмитт создает образ излучения, помогающий зримо представить, как в рамках большого пространства возможно зарождение рейха. Но если рейх есть большое пространство, то не любое большое пространство – рейх. Чтобы стать таковым, то есть, воплотить в себе признаки рейха, большое пространство должно стать неделимой единицей пространственной организации в форме рейха, а не оставаться суммой малых пространств, входящих в его состав: «Человеческое множество, объединенное общей развивающей его историей созидания Рейха, именуется народом. Его самостоятельность и свобода состоит в том, чтобы возвышенным движением развиться из самого себя до Рейха. Свобода и самостоятельность народа окажутся под угрозой, если ход этого развития может оказаться прерванным какой-либо силой; он должен войти в другое развивающееся стремление к Рейху …» [10, с. 338].
Шмитт противопоставляет рейх империи, полагая, что критерием для такого различения следует считать их разное отношение к универсализму: «Если империи представляют собой универсалистские явления, охватывающие весь мир и человечество, и потому носящие наднациональный характер, то рейхи национальны по своей природе…» (курсив наш. – Б. А.) [1, с. 2]. В широком смысле слова универсализм соотносим с глобализмом, который, в отличие от многополярного миропорядка (основанного на существовании нескольких империй) предполагает в качестве большого пространства одну империю [2]. По Шмитту Первый рейх являл собой попытку построения именно такого наднационального универсалистского образования (что и стало причиной его разложения и последующей ликвидации).
С Третьим рейхом дело обстояло несколько сложнее. Определяя его как большое пространство (и как империю), роль рейхов Шмитт отводил европейским государствам, которые обязаны были принимать по возможности равное участие в создании европейской империи под руководством Третьего рейха3.
Понятие рейх в интерпретации Шмитта не может и вряд ли когда-то сможет перетолковать, а значит преодолеть делегированный ему национал-социализмом изначально порочный смысл. Еще одной причиной игнорирования шмиттовского определения рейха можно считать некоторую путаницу, которая возникает при попытке осмыслить соотношение понятий империя – большое пространство – рейх применительно и к Первому, и к Третьему рейху.
Слово рейх не прижилось и в российском политическом и политологическом вокабуляре и используется лишь в научной литературе применительно к трем германским рейхам, поскольку имеет резко отрицательную коннотацию, ассоциируясь исключительно с гитлеровской Германией.
Империя. Закладывая в основу различения между рейхом и империей их отношение к универсализму, Шмитт считает, что империя – это универсалистское наднациональное образование (с претензией на мировое господство), в рамках которого действует конкретный международно-правовой порядок, игнорирующий запрет на захват чужих территорий. В отличие от империи, рейх имеет характер не-универсалистского национального образования, где исключается интервенция сил, принадлежащих чужому пространству: «Германский рейх определяется существенно народно и является существенно не-универсалистским, правовым порядком на основе уважения каждой народности» [11, с. 529].
То общее, что связывает понятия рейх и империя (и что отличает их от понятия государство) можно кратко охарактеризовать как их равнозначное влияние на все то, что находится вне их пределов: «…Нельзя представлять себе дело так, будто все пространство Земли поделено между равноправными, территориально хорошо отграниченными друг от друга государствами. На самом деле есть государства, которые лишь по видимости являются таковыми и не могут удержать свой суверенитет над территориями, есть великие державы и есть межгосударственные территории, которые на первый взгляд подпадают под юрисдикцию общего для всех международного права, но фактически регулируются в свою пользу. Империи, рейхи – это как раз такие мировые силы, и разговор идет о том, как распространяется их влияние на сферы, далеко выходящие за границы политических единств» (курсив наш. – Б. А.) [5, с. 47].
Конкретный порядок и империя. Шмитт характеризует конкретный порядок, используя частицу не и тем самым разрешая более чем вольное его понимание: «…конкретное мышление характеризуется тем, что порядок для него даже юридически не есть правило или сумма правил, а наоборот: правило есть лишь элемент и средство порядка» (курсив наш. – Б. А.) [10, с. 313]. Другими словами, порядок устанавливается посредством правила (правовой нормы), а не наоборот. Более того, право не может быть сведено к порядку, ибо порядок шире права, а право, укорененное в правовых привычках (которыми обладают соответствующие «товарищи по праву»), шире (писаных) законов (правовых норм). Короче говоря, каждый конкретный случай требует своего «права», средствами которого устанавливается конкретный порядок4.
Очевидно, что в обоих случаях Шмитта в первую очередь интересует конкретный рамочный порядок, «но не чисто нормативистски, поскольку с нормативистской точки зрения речь идет не о конкретных фигурах порядка, а лишь абстрактных “точках соотнесения”…» [4, с. 13]. При этом и в нормативизме (правовой норме), и в децизионизме (решении) заложен порядок (курсив наш. – Б. А.), ибо и судья, действующий в соответствии с нормой, и властитель, принимающий решение в случае чрезвычайного положения, – это не нормативистские или децизионистские понятия, а понятия порядка, которые Шмитт и в случае с судьей, и в случае с властителем определяет как «компетентные инстанции». Апелляция к действующей норме, то есть уход в чистый нормативизм возможен лишь в нормальной ситуации или в представлениях о ней как о нормальной. В противном случае, то есть в случае «не-нормальной ситуации», а значит «не-порядка», «нормативистское мышление – чем более оно становится чисто нормативистским – ведет к постоянно усиливающемуся разделению нормы и действительности, долженствования и бытия, правила и конкретного положения вещей» [10, с. 317].
Разделение нормы и действительности применительно к империи есть не что иное как разделение представления о том, что именно она должна являть собой в соответствии с изначальными притязаниями ее создателей на мировое господство и то, что она являет собой в действительности.
Одной из причин такого разделения может стать борьба за власть, по мере обострения которой ситуация в империи перестает быть «нормальной». При этом представление об империи как о целостном политическом единстве и ее притязания на мировое господство сохраняются. Это представления того большинства, которое продолжает считать империю бастионом, созданным для противостояния пришествию антихриста. Это и представления самого императора, который сохраняет за собой функции «гаранта мира, третейского судьи, тираноборца» (в терминологии Шмитта). При этом власть императора и сама империя как вид власти требуют, с одной стороны, определенного символического порядка, который должен выражаться в подчинении отдельной воли воле общей (и при котором ущемление воли одного во благо всех служит критерием единства империи) и высшего порядка, с другой, который предполагает обязательную справедливость политического устройства мира, отвечающую всем требованиям этого высшего порядка [3].
В «Трех видах» Шмитт отвечает на вопрос о том, какое представление о порядке полагает децизионизм: «… под воздействием … христианских представлений о миропорядке … постоянно присутствовали представления о порядке как предпосылке решения. В результате этого чистое «ничего кроме решения» вновь ограничивается со стороны мышления о порядке и входит в него; оно становится следствием некого предполагаемого порядка» (курсив наш. – Б. А.) [10, с. 323]. Возвращаясь к Первому рейху, отметим, что решения, предпринимаемые папой или императором, выражают их представление о том, какой именно порядок – светский или теологический – должен быть установлен в империи. За не-совпадением порядков, а точнее – за не-совпадением представлений о том, каким именно содержанием – светским или теологическим – должен быть наполнен порядок, кроется основная причина распада и гибели Священной Римской империи: «Если в те времена … политическая мысль могла вдохновляться видением огромной империи, охватывающей в перспективе не только все человечество, но и находящей свое место в устройстве всего мироздания, то попытки придать этой империи сугубо посюстороннее мирское содержание или, наоборот, сугубо теологический смысл уже привели к существенным проблемам» [6, с. 178].
Когда мы говорим о «чистом» децизионизме, то имеем в виду такой его тип, который в основе своей имел не-порядок, но был приведен в порядок силой принятого сувереном решения. При этом принимающий решение суверен компетентен принимать его вовсе не на основании уже существующего порядка, а на основании того решения, которое устанавливает вместо не-порядка и неопределенности порядок и безопасность государственного состояния, что в конечном итоге превращает его в официального суверена, его решение – в суверенное решение и делает возможным все остальное – закон и порядок.
Следует, однако, отметить, что чрезвычайная ситуация, как и право императора о принятии суверенного решения, разными исследователями трактуется по-разному. В отличие от Хеера российский философ права И. А. Исаев считает, что под воздействием такой ситуации «рождается особая форма права, в действительности являющаяся лишь «правом полиции», а неявный источник имперского права заложен в применении чрезвычайного положения для установления и поддержания порядка [3, с. 49]. Другими словами, возникновение ситуации, называемой чрезвычайной, есть лишь предлог для того, чтобы имперская власть имела основание, чтобы, первое, установить чрезвычайное положение и, второе, апеллировать к воображаемым имперским ценностям.
Воображаемое, образ, фантом, символ – именно эти характеристики сопровождают понятие империи в объемном сочинении Исаева с символическим названием «Государство-фантом, или Воображаемая империя». Тот факт, что в период позднего Средневековья император лишился возможности прямого воздействия, Исаев не считает причиной неминуемого распада империи. Именно ее фантомное присутствие там, где она фактически отсутствовала, способствовало ее усилению: «… через систему знаков и символов имперская власть стремилась находиться везде и единовременно. И эта функция присутствия, как ни странно, только усиливала ее воздействие, подчеркивая фантастическую безграничность того пространства, в котором власть как бы пребывает» [3, с. 25–26]. Не меньшим отрывом от территории, от своего фактического присутствия характеризуются сегодня и некоторые большие политические пространства: «…оно (европейское пространство) все менее жестко привязывается к территории, трактуется исключительно как виртуальное… не имеет географической основы» [8, с. 21].
О релевантности применения теории «больших пространств» сегодня
Шмитт считает большое пространство «конкретным современным историко-политическим понятием». При этом он допускает возможность других, «более красивых обозначений» того, что сегодня называется большим пространством, но пока они не появились, предлагает пользоваться имеющимся: «Большое пространство – это возникающая из обширной современной тенденции развития область человеческого планирования, организации и активности. Большое пространство есть для нас прежде всего связное пространство достижения» (курсив наш. – Б. А.) [11, с. 486]. Еще одно шмиттовское определение характеризует большое пространство как «организующее, определяющее начало, в результате которого появляется сопряженное пространство достижения, …принадлежащее наполненному историей и соразмерному истории рейху» (курсив наш. – Б. А.). [Там же, с. 564]. В первом и втором определениях большое пространство характеризуется связностью или сопряженностью, что подразумевает единство, в каждой части которого отражается целое, а не сумма отдельных частей, входящих в его состав.
Итак, в качестве единства по Шмитту может выступать большое пространство в форме империи или рейха. И тогда возникает вопрос, реально ли их единство или мы только представляем их как единство, то есть верим в миф, согласно которому они представляют собой это единство.
Реальность единства империи или рейха Шмитт предлагает определять посредством пространственного измерения, ссылаясь на доктрину министра иностранных дел США Г. Стимсона, который склоняется к политическому единству мира по причине неспособности империи или рейха к преодолению противоборства между одной частью страны и другой (что привело к гражданской войне (1861–1865) между северными и южными штатами США) и между одной частью мира и другой (что спровоцировало длительное геополитическое противостояние США и Советского Союза). Размер пространства играет в данном случае ключевую роль, поскольку, по мнению Стимсона, он всегда будет недостаточным для преодоления подобного рода мощного противостояния, наличие которого Шмитт характеризует как тревожный дуализм.
Дуализм Шмитта, в отличие от дуализма Стимсона, не сводится к противоборству двух политических систем или войне между Севером и Югом. Размыкая границы двойственной стимсоновской модели, дуализм Шмитта открывает путь для третьих сил, способствующих установлению равновесия больших пространств и «создающих новое международное право, на новом уровне и с новыми измерениями», но с апелляцией к европейскому праву, прообраз которого зарождался в недрах Священной Римской империи, как и с апелляцией к подлинному плюрализму, прообраз которого нашел свое выражение в плюралистичности Jus Publicum Europaeum времен Римской империи: «Враждебное напряжение, присущее дуализму, диалектически предполагает общность и тем самым опять единство» [9]. Подтвержденная таким образом гегелевская триада «тезис – антитезис – синтез» может быть наиболее убедительно продемонстрирована на примере разделения властных полномочий, исполнение которых осуществлялось папой и императором в рамках единства их представлений о Священной римской империи как о Respublica Christiana, но при этом порождало (на основании этого единства) конфликт интересов обоих. «Следует ли из этой …общности историко-философской картины мира, что сегодняшний дуализм ближе к окончательному единству, чем к новому многообразию?» [9].
То, что Шмитт определяет как единство мира, международно-политическая наука характеризует как мировую политическую унификацию, задаваясь более определенным, с точки зрения его прогностического потенциала, вопросом о том, каковы сегодняшние причины интеграционной турбулентности, сложившейся «по внешнему контуру» европейского проекта (Северная Африка, Украина). Но если исследователи в сфере международных отношений связывают сегодняшний геополитический кризис с «достижением европейской интеграцией цивилизационных, финансово-экономических пределов и ограничений в сфере безопасности» [8], то для Шмитта очевиден нравственный кризис человека, измерением которого выступает «несоответствие технического и морального прогресса».
Заключение
Большинство положений шмиттовского учения о больших пространствах в значительной степени опередили свое время, предлагая новое прочтение таким актуальным сегментам современного социального знания, как социология пространства, международно-правовая наука, история права, медиевистика и теория империи.
Политически корректное определение дальнейших перспектив развития глобальных интеграционных процессов не представляется возможным без детального изучения теории «больших пространств», которая оказывала и оказывает определяющее влияние на состояние современного миропорядка. С этой точки зрения перспективность исследования труда Карла Шмитта о больших пространствах трудно переоценить: «…его значение намного превосходит и исторический, и политический, и географический контекст, закладывая фундамент особой политико-юридической модели мышления, которой, скорее всего, суждено воплотиться в жизнь только в XXI в.» [2].